|
|
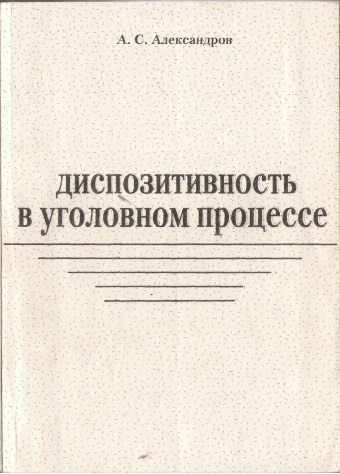
Александров А.С. Диспозитивность в уголовном процессе. Н.
Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. – 209 с.
К оглавлению
“ Мой
собственный дом - мое пристраcтье.”
Ф.Ницше.
“Веселая наука”.
“Сущность наук, как правило,
состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности.”
У. Эко. “Маятник Фуко”.
Лично я не
верю в куммулятивный характер процесса гуманитранного познания, В частности,
сутью развития науки уголовного процесса, по моему мнению, является не
прогрессивное накопление знаний, а движение по кругу, “вспоминание” старых
истин. Достаточно только сопоставить советскую науку уголовного процесса,
русскую дореволюционную науку в современной познавательной ситуации. однако
такое видение “прогресса” научного познания получило распространение только
сравнительно недавно в Западной философии науки, Основание традиционной -
позитивистской науки всегда составляло представление о прогрессе. Юридический
позитивизм естественным образом связан с позитивистской наукой, Он разделяет традиционное
требование позитивистской науки о референции, то есть чтобы наука давала
соответствие между понятием и вещью, между теорией и соответствующей ей
действительностью. Хотя, по моему мнению, это просто ”нормальная” наука,
сущность которой заключается в оперировании по определенным правилам смысловыми
образованиями внутри текстовых полей. Единственный критерий истинности здесь -
действующее законодательство, имеет таким образом социальноситуативный
характер. Между тем ученые-позитивисты настаивают на том, что устанавливаемые
ими “ научные факты” отражают некую реальность, что они производны от этой
реальности, и что именно эта реальность, в конечном счете, делает то или иное
утверждение истинным. При этом нам все уши прожужжали разговорами об обьективности
и строгости - двух неприменных атрибутах ученого. [1] Полагаю, рассуждения об “обьективности”, “строгости”, как и вообще “научности”
в широком смысле, являются не более чем риторическим прикрытием определенной стратегии автора текста на создание определенного смысла.
Юридическая наука оказалась на деле гораздо
более, так сказать, “мирской”, чем раньше предполагалось. Вспомним недавнее
советское прошлое. Достаточно раскрыть любую юридическую работу того времени:
на первых листах есть ссылки на "свежие" партийные решения и,
конечно, “всегда свежих” классиков марксизма-ленинизма, с помощью которых
обосновывалась правильность (а вернее правоверность) научной позиции автора
текста. Так, в полном соответствии с утверждением семиологии, с помощью одних
знаков текста устанавливается значимость знаков других текстов. С помощью
вырванных из контекста цитат можно подпереть любую мысль. Впрочем, в то
время таким образом вопрос не мог быть поставлен. Цитирование соответствующих
текстов носило не только риторический характер, но можно сказать ритуальный,
потому что тем самым демонстрировалось причастность к источнику сакральных
знаний. Ведь само собой предполагалось, что коммунистическая партия, которая
обладала реальной властью в государстве, определяет критерий истинности для
юридической науки. Поэтому сопричастность партийной линии давало право
утверждать свою точку зрения в качестве “истинной”. Ценностные установки
ученых-правоведов, критерии истины в правоведении менялись вслед за колебаниями
курса "руководящей силы общества".
Сменилась политическая идеология, но
юридический позитивизм по прежнему определяет способ мышления большинства правоведов.
В полной мере сохранилась авторитарная привычка утверждать свое мнение в
качестве истинного, чутко улавливая при этом желания власти. Вместо
озабоченности смыслом, единственной достойной заботы гуманитарной науки [2] ,
правоведение демонстрирует стремление к единообразию, в основе которого лежит
представление о наличии некоего метаязыка (основного кода), имеющего особый
статус по отношению к другим языкам. Правда теперь
это подается под другим соусом. В моде рассуждения в духе естественного права о
неких естественных правах и свободах человека, правовом государстве и пр. По
этому поводу Гадамер замечает : "Мы живем... в состоянии непрерывного
перевозбуждения нашего исторического сознания. Следствием этого перевозбуждения
и ... недоразумением является стремление перед лицом подобной переоценки
исторических изменений опереться на вечный порядок природы и использовать
человеческую естественность для обоснования идеи естественного права. " [3] Я полагаю, что нет и не может быть одной теории, единого языка с помощью
которого можно было бы сформулировать единственный, объективно истинный смысл.
В свое время социологическая школа права показала несостоятельность теории
естественного права. И сама в свою очередь была раскритикована. Интересно, что
будут делать сегодняшние адепты правового государства, если в моду войдут другого рода ценности: государственно-правовая модель типа пиночетовской
диктатуры или южнокорейская модель. Забудут о своих либеральных пристрастиях,
как в одно время забыли об идеалах коммунизма, социализма? Очивидно, что
мимикрируют, подтверждая на деле утверждение Гадамера о том, что мы не заперты
в герменевтическом универсуме, как в непреложных границах, но который и для
которого мы открыты. [4]
Рациональное мышление на каких бы посылках оно
не базировалось (исторический материализм или естественная школа права) не
может претендовать на постижение истины, поскольку научная деятельность
социально ситуативна и контекстуальна (контекст действующего
уголовно-процессуального законодательства для советской уголовно-процессуальной
науки). Она включает внутренние торги относительно того, что считать
доказательством и фактами, политические схватки относительно актуальности,
нужности, да и самого содержания и качеств прав (как горячо мы возлюбили права
человека, как “давно” и недавно это с нами произошло). Научная деятельность -
это искусное применение текстуальных и нетекстуальных средств по производству
артифактов. Профессиональные и непрофессиональные игроки в определенную
языковую игру заинтересованы в конструировании и деконструировании социальных и
познавательных систем. Они сверяют свои утверждения и заявления с материальными
и символическими средствами, которые способны помочь им, в то же время пытаются
отказать в этом своим оппонентам, разьединяя связи между им противостоящими
утверждениями и их собственными средствами. Это происходит в любой стадии
возникновения состязания и конфликта относительно заявлений и утверждений.
Научное
утверждение становится истинным путем мобилизации разнообразных и разносторонних
действующих сил. Сами по себе все утверждения первоначально слабы, субъективны,
локальны и спорны. Становясь более авторитетными, они привлекают в свою
поддержку текстовые и нетекстовые факторы. Текстовые факторы составляют в
основном риторические и стилистические условности позитивизма. Поэтому можно
сказать, что позитивизм (включая,
юридический) является организационной, спекулирующей на своей незаменимости риторикой, которая вступает в дело,
когда для научной работы наступает время публичной обьективизации, т.е. быть
публично представленной (например, защита диссертации). Эта специальная
риторическая презентация выставляет полученные данные как прямое обнаружение
реальности, умаляя (замалчивая) при этом роль факторов субьективных влияний и
конструктивистских усилий ученых.
Более важными однако являются внетекстовые
факторы, которые наука может мобилизовать. Прежде всего это поддержка других
ученых, которая выражается через соответствующие ссылки. Вообще цитирование
существенным образом способствует трансформации первоначального субьективного
утверждения в “научный факт”. Если никто не обращает внимания на утверждение,
если никто не использует это утверждение в своих собственных исследованиях, оно
исчезает в массе библиотечных бумаг, как просто точка зрения, не имеющая ничего
общего с отражением реальности. Хотя в действительности, это никак не связано с
проблемой отражения реальности - просто утверждение не попало в поле зрения
научной общественности. Кстати, такова общая судьба подавляющего большинства
публикаций.
Вторым фактором, влияющим на превращение
утверждения в научно установленный факт, является имя автора данного
утверждения. [5] Это не значит, что репутация гарантирует принятие его научным сообществом, но
репутация увеличивает возможность того, что утверждение будет услышано и
воспринято всерьез. Хорошо известные люди находятся в лучшей позиции, чтобы
торговаться относительно значения своих утверждений с себе равными. Моральная
сила репутации, так сказать, прикрепляется к утверждениям, сделанным известным
и уважаемым лицом. [6] А поскольку всегда существует переизбыток утверждений, претендующих на внимание
научной общественности, постольку ученые изучают окружающую их текстовую среду с
помощью такого ключа, который представляет возможность эффективно выявлять все
наиболее важное и заслуживающее внимания. Этим ключом и является авторитет
имени автора утверждения. [7] Поэтому высокая репутация автора гарантирует внимание к сделанному им
утверждению и порождает к нему доверие, способствуя таким образом его
“обьективизации”.
Превращение утверждения в факт становится
полным, когда утверждение становится безымянным, когда его происхождение не
нуждается более в подчеркивании, когда оно появилось в книгах и в фондовых
лекциях, когда знание становится как бы само собой разумеющимся. [8] Особенно эффективно, когда оно закрепляется в законодательных актах. Когда это
происходит, вступает в действие соглашение о том, что, утверждение, которое в
момент появления было как нечто хрупкое и неустойчивое, находящееся под властью
аномалий и неопределенностей, теперь принимается в качестве объективной
данности, т.е. как нечто такое каким мир действительно является и каким всегда
был. [9]
Таким образом, ученые-процессуалисты все время
конструируют и деконструируют текстовую
реальность. Они употребляют определенные источники и коммуникативные сети
для выведения своих утверждений, которые должны выстоять деконструкцию со
стороны ученых, соперничающих с ними в деле производства той же вещи. Они
устанавливают определенные структуры внутри рамок более крупной структуры
(иными словами парадигмы), установленной более крупной общностью ученых или
общественных организаций (социальная прослойка, класс, нация и пр.). [10] И все это никак не связано с какой-либо внетекстовой реальностью. Действительно,
"теории сегодня не открывают, их выдумывают и конструируют. Момент фикции,
выдумывания новых моделей и воображаемое внедрение их в сообщество
исследователей играет все более важную роль." [11]
Таким образом, грань между искусством и
наукой, которая всегда проводилась по точности референции, представляется
весьма относительной. Юридический позитивизм не имеет никаких объективных
критериев для определения того или иного утверждения/заявления как истинного
или неистинного. Все “объективные” критерии истины - суть правила в
определенной языковой игре. Они подвижны (подчиняются такому феномену как
мода), относительны, социально ситуативны. Однако юридический позитивизм, как
социальная организация по производству артифактов, нуждается в мифе о наличии
Истины. Ведь режим истины лежит в основе организации каждой “нормальной” науки.
Этот режим, авторитарный по своей сути, (а не каким другим он и не может быть)
в полной мере определяет “лицо” современной юрипруденции - юридического
позитивизма. [12]
Режим истины, о котором мы говорим, не имеет под
собой никаких объективных оснований( в виде независимой от сознания объективной
реальности) и может существовать только путем придания какому-либо языку
статуса метаязыка, основного кода, который и служит критерием истинности
правильности отдельных утверждений, частной речи (письма). В сущности все
правила, которые определяют порядок организации и функционирования юридического
позитивизма и есть этот метаязык. Естественно, основное правило здесь -
точность референции действующего законодательства, что, в конечном итоге,
означает соответствие требованиям власти. Современная правовая наука не
осознает своей языковой природы и склонна в языке видеть только орудие
дискурса. Тем более очевидна языковая основа авторитарного режима истины
современной процессуальной науки, которая состоит в придании языку власти (языку
закона) значения метаязыка, т.е. основного языка. Истинность любого
утверждения, как частной языковой практики (речь), определяется по степени
соответствия смыслам этого метаязыка. Любое отклонение от него считается
аномалией, делая утверждение маргинальным. Это как раз тот случай, когда
социальность (государственность?) режима истины вполне очевидна. Опора режима
истинности (языковой науки, науки уголовно-процессуальной) имеет
внеструктурное, внетекстовое происхождение, находится в другой плоскости - во
власти государства.
Авторитаризм характеризует суть способа
представления смысла юридического позитивизма. Узаконивание притязаний
определенного языка (например, советской теории государства и права или
естественного права) в качестве истинного своего рода субкода, тождественно
легитимизации, оправданию определенного общественного устройства (пролетарского
или буржуазного), тесно связано с властью. Утверждение одного из языков (одной
из возможных "языковых игр")
в качестве универсального совпадает с утверждением универсальности определенной
социальной системы. Нет и не может быть универсального языка, как нет и не
может быть универсальной рациональности - есть лишь различные языковые игры. [13] Без признания этого правовая наука перестает быть наукой, а становится
служанкой власти. [14] Полагаю, что для каждым пишущим юристом должно быть усвоено, что "точка
зрения, которая возвышается над всеми прочими точками зрения и которая якобы
позволяет нам мыслить истинное тождество проблемы - чистейшая иллюзия." [15]
Язык, несомненно, может обладает авторитарным
свойством. Попадание под власть языка происходит в тех случаях, когда речевую
деятельность окутывает “благостное облако иллюзий реалистического свойства,
представляющих язык в виде простого посредника мысли" [16] ,
в то время как фактически определенному виду речи придается значение метаязыка.
Язык, благодаря своим "обязательным категориям" является активным
элементом познавательной ситуации, определяя в конечном итоге результат
познания. Так, сложившийся на настоящее момент российский
уголовно-процессуальный язык заставляет его пользователей мыслить так, а не
иначе. Уголовно-процессуальное право (как и другие отрасли права) - это функциональный
язык, то есть система правил, навязываемых пользователю как члену
коммуникативной системы. Пользоваться языком и быть свободным от него нельзя. [17] Однако можно и нужно постоянно оспаривать и разоблачать авторитарные притязания
языка, иначе нельзя быть свободным в творчестве. Полагаю, что следующим шагом
после осознания языковой природы реальности, будет признание сходства
познавательной деятельности в сфере науки уголовного процесса (“серьезной
культуры” ) и искусства (“несерьезной культуры”).
Как известно, различению науки и искусства в
том виде в каком оно понимается сегодня, мы во многом обязаны позитивизму,
имевшему значение господствующей методологии с начала19 века. Именно тогда
естественнонаучный взгляд на мир получил распространение и в гуманитарных
науках, в юриспруденции в том числе. Впрочем в процессуальной науке еще в конце
19 века различие между правовой наукой и искусством не представлялось вполне
очевидным и требовало обоснования. [18] В советской процессуальной науке это различие априорно подразумевалось. Однако,
в свете вышесказанного, я склоняюсь скорее к отрицательному ответу на вопрос о
существовании различия между теорией процесса и искусством. [19] Конечно, можно представить вариант, когда уголовно-процессуальный язык будет
полностью формализован. Принципиальную возможность такого я не исключаю и даже
предлагал способ реализации этого. [20] Лишь когда наука сможет передавать свои смыслы числами и формулами, она станет,
по замечанию Гаусса, "настоящей" наукой - естественной наукой. Мне в настоящее время ближе другой вариант:
когда теория процесса предстоит как
наука гуманитарная, способ познания
которой сходен с пониманием в сфере искусства. [21]
Если более внимательно проанализировать в чем
в сущности различие между познанием осуществляемым в сфере искусства -
литературы, музыки, живописи и в сфере гуманитарной науки, каковой является
теория уголовного процесса, то придем к выводу о том, что природа человеческого
знания непосредственно определяется социальными институтами. Так, программа
юридического образования, в рамках которого происходит познание права,
традиционно включала ряд обязательных дисциплин - в частности, науку уголовного
процесса. Определяющим для науки является не особое содержание, не особый метод
- но исключительно ее социальный статус: ведению науки подлежат все те данные,
которые общество считает достойными сообщения. Полагаю, в случае с наукой уголовного
процесса - это то что, преподается.
В этом заключается ее основная социальная роль, встроенность в определенную
социальную структуру.
Еще одно обьединяет науку и искусство, но оно
же различает их вернее всяких различий: и та и другая суть виды дискурса. Но
формируясь в языке, они каждая по своему его принимают или, если угодно,
исповедуют. Для науки язык лишь орудие, и его желательно сделать как можно
более прозрачным и нейтральным, поставит его в зависимость от субстанции
научного изложения (предположений, выводов), которая считается по отношению к
нему внеположенной, первичной. Мы имеем, с одной стороны, и прежде всего,
содержание научного сообщения, в котором и есть вся суть, а с другой стороны, и
только потом, выражающую его словесную форму, которая сама по себе ничто. Наука
преподается, то есть высказывается и излагается, но не живет внутри языка.
Оппозиция науки и литературы, по своей сути выявляет два подхода к языку - в
одном случае он замаскирован, в другом открыто принят.
Так называемые “обьективность” и
“беспристрастность”, конечно, необходимы при работе, но лишь в качестве
предварительных операций. Их нельзя перенести в дискурс. В любом высказывании
подразумевается субъект - выражает ли он себя прямо, говоря "я" или
косвенно или вообще никак, пользуясь безличными оборотами. Все это чисто
грамматические уловки, от которых зависит лишь то, как субьект формирует себя в
дискурсе, то есть то как он представляет себя другим людям с помощью
грамматических категорий. Следовательно, ими обозначаются лишь разные формы
воображаемого, которые выдаются за обьективность. Как отмечалось, только полная
формализация научного дискурса гарантировала бы от проникновения в него
воображаемого. Если только наука не решится пользоваться этим воображаемым
вполне осознанно, что достигается лишь в письме.
Одно лишь письмо способно рассеять неискренность, тяготеющую над любым языком,
который не сознает себя.
Пользоваться научным дискурсом как орудием
мысли - значит предполагать, что существует некий нейтральный уровень языка, а,
например, моя речь, мой текст (или любой другой) - это только производные от
него частные субкоды. Отождествляя себя с
этим основным кодом, на котором якобы зиждется всякая норма, научный дискурс
присваивает себе высший авторитет, оспаривать который как раз и призвано письмо. В понятии письма (ecrit) содержится представление о языке как об обширной
системе кодов, ни один из которых не является привилегированным или
центральным. Научный дискурс считает себя высшим кодом - письмо же стремится
быть всеобъемлющим кодом. Поэтому только письмо способно сокрушить утверждаемые
наукой теологические представления, отвергнуть террор отеческого авторитета,
что несут в себе сомнительные "истины" содержательных посылок и
умозаключений, открыть для исследования все пространство языка. [22]
В качестве иллюстрации порочности
отождествления языка/речи (lanque/parol) привдем довольно распространенное мнение о методологическом значении теории
права для отраслевых юридических наук, Сторонники этой точки зрения обычно
отождествляют свою речь с неким,
очевидно им одним известным, нейтральным языковым кодом, не признавая такого же
значения, например, за моей речью (текстом). Вполне возможно это делается даже
неосознанно. Подобная способ объективизации своего "я" в дискурсе
может иметь различные объяснения, в равной степени по-моему ложные. В данном
случае подразумевался язык теории права,
который якобы несет истинный смысл. Если вдуматься, речь идет о разновидности
позитивистского толкования правовых понятий, т.е. с точки зрения их
соответствия действующему законодательству. В этом заключается парадигма
познания советской правовой науки, позитивистской
юридической наука. В речи,
выступающей как язык - метаязык я слышу
голоса, что вечно правы. И пугаюсь этой правоты. Потому что за таким
дискурсом скрывается нечто, исключающее свободу интерпретации при его
восприятии. Это нечто есть власть, насилие. И готовность судить с такой
позиции. Вряд ли такая позиция способствует достижению справедливости. Если же
мы стремимся к ней необходимо все принять
ничего не отринув. В том числе и “маргинальную” установку автора настоящего
текста на игру в повторение слов,
лишенных всякого смысла, но без напряжения,
без напряжения.
Вряд ли кто-нибудь может претендовать на
знание истинного смысла диспозитивности независимо от контекста. Смысл термина
диспозитивность неизбежно зависит от того контекста, в котором он толкуется.
Неважно кем и в каком контексте. Это может быть текст закона, текст монографии
и пр. Данный текст - это тоже семантическая структура, являющаяся контекстом
для определенного смысла термина "диспозитивность". Однако я не
связываю свою речь с наличием какого-то основного одного
уголовно-процессуального языка (терминологической системы?), тем более
общеправового языка как основного кода, носителя истинных смыслов
уголовно-процессуальных понятий. Под уголовно-процессуальным языком (langage)
понимается как всю совокупность уголовно-процессуальных текстов, множество
частных языков - писем (ecrits). И не признаю ни за каким текстом, речью
значения основного языкового кода. В том числе и за текстом закона. Конечно,
при взаимодействии с текстами приходится принимать в расчет и внеструктурные
обстоятельства. Например, в том же случае с текстом действующего
уголовно-процессуального закона или когда речь идет об официальном толковании
правовых норм. Но не надо упускать из вида, что в этом случае авторитет власти, а не власть авторитета является критерием
"истинности" смысла. Опять же подчеркиываю, что здесь не ставится под
вопрос необходимость установления смысла тех или иных уголовно-процессуальных
терминов в рамках контекста действующего законодательства (понятие
диспозитивности в контексте УПК РСФСР мною будет дано в настоящей работе). Но
этот контекст не единственный, в котором можно интерпретировать смыслы
уголовно-процессуальных знаков. Поэтому я против того, чтобы познание в
уголовно-процессуальной науке ограничивалось исключительно этим контекстом, против придания одному языку (языку закона)
значения абсолюта. Как отмечает П. Рикер:” ...даже право должно позволять нам
мечтать.” [23] Я выступаю за плюрализм уголовно-процессуальных языков, плюрализм способов
познания, плюрализм истин, плюрализм во всех смыслах. История доказывает
относительность правовых истин. Текст закона зачастую носит
"неистинный" смысл (чаще всего это выясняется, когда он утрачивает
силу) и официальный толкователь бывает ошибается (чаще всего это выясняется при
смене судебной практики). Поэтому теория процесса не может быть только
догматическим толкованием буквы закона. В ней должно постоянно происходить
формирование нового смысла (отнюдь
не "истинного"), а не объективизация власти. [24]
Полагаю, что в рамках данного текста смысл
диспозитивность именно таков каким он представлен в итоговом определении.
Однако читатель - интерпретатор моего текста может толковать его смысл в другом
контексте. Результат интерпретации - смысл диспозитивности окажется другим. Влияние
текста как на исследователя-интерпретатора, так и исследователя-интерпретатора
на текст обоюдно. При этом только знаковый момент текста в системе писатель-текст-читатель
является устойчивым. Но смысл рождается в результате взаимодействия всех трех
компонентов. В ходе интерпретации смысл сочится через структуру обозначения.
Слова истекают смыслом. Он затвердевает, структуируется как результат
интерпретации в виде нового текста. Таким образом, понимание в науке уголовного процесса слагается из исполнения и прочтения текстов. Читать - это значит относиться к тексту как
структуре и с этой позиции интерпретировать смысл, устанавливая значение
знаков. Писать это значит прививать тексты друг к другу, выстраивая свою
знаковую структуру. И при этом соглашаться с тем, что мир превращает твое слово в догматический дискурс, тогда
как сам ты хотел сделать его носителем свободного смысла; писать значит
предлагать другим заботу о завершенности твоего слова, письмо есть лишь
предложение, отклик на который не известен. [25] Таким образом, текст единственная реальность, кроме которой ничего нет (“Il n’y
a pas de hors text”). Субъект познания не противостоит ей как нечто
обособленное, а является частью ее. Таким образом, плюральность языков авторов
уголовно-процессуальных текстов с необходимостью сочетается с плюральностью
интерпретации уголовно- процессуальных текстов читателями.
Мы опять вернулись к теме о плюральности
научного мира. Очевидно, что высказанная в предыдущем абзаце мысль полностью
соответствует этому положению. Сколько субьектов - столько и языков, столько и
смыслов. Однако не приведет ли такое положение к отрицанию всякого
положительного знания. Не уравниваем ли мы в своем значении смысл и бессмыслицу
и отсутствие смысла. Есть ли критерии "оценки" текста?
Полагаю, что на этот вопрос можно было бы
ответить так: важно, не то "что" сказано, а "как". "Мерой
... дискурса является его правильность (justesse), внутренняя
согласованность." [26] Поскольку, как было указано ранее, критерий правильности,
"истинности" смысла того или иного процессуального понятия
неверифицируем, постольку он носит эстетический характер самоограничения. Если наука это язык, то опору она находит не
в истине, а в своей собственной валидности и любой объект доступен любому
научному переосмыслению. Однако эта свобода должна быть ограничена двумя
условиями: первое- научный язык должен быть однородным, структурно связным,
второе - он должен исчерпывать весь объект, о котором идет речь. Принадлежность
истолкователя тексту подобна принадлежности оптического центра перспективе, заданной
в картине... тот кто понимает, не выбирает точку зрения по собственному
произволу, а находит свое место данным ему заранее. [27] К сказанному следует добавить замечание о таком феномене как чувстве сопротивления материала. В этом
сопротивлении есть свой смысл, и к нему нельзя относиться равнодушно-безответственно,
с одной стороны его нужно преодолевать, а с другой понимать, что там, где
сопротивление стало слишком сильным - там появляется новая проблема, то есть
пора переходить на другой язык (англосаксонский, мусульманский, закона Ману или
Хамурапи). [28] Таким образом, нами должно соблюдаться ограничение - соблюдение контекста,
текстового поля (textial fields), т.е. рамок, в которых происходит оперирование
материалом по интерпретации смысла. Эти рамки задаются не самим материалом, а
устанавливаются сознательно, часто вопреки собственным возможностям и желаниям
в условиях полнейшей свободы конструирования. [29] По-видимому, то свойство исследователя, которое требуется от него при конструировании
правовых моделей, является вкусом.
Хороший вкус - это такой тип восприятия, при котором все утрированное
избегается так естественно, что эта реакция по меньшей мере непонятна тем, у кого
нет вкуса. [30]
И, наконец, несколько соображений о том, как
соотнести выражения “понятие диспозитивности” и “смысл диспозитивности”.
Вообще-то термин “понятие” является принадлежностью традиционной
гносеологической теории, основные положения которой об автономном субъекте
познания и независимой от него реальности, я пытаюсь разрушить. Как вы уже
догадались, наверное, отрицая и первой и второе, я трактую понимание как
интерпретацию текстов. Есть текст как семиологическая структура, в нем есть
знаки, у знаков есть смыслы и значения. Интерпретатор как исполнитель текста и
одновременно читатель его не может быть помыслен как нечто внешнее по отношению
к нему. Интерпретатор и текст составляют единство познавательной ситуации, из
взаимодействия которых и рождается смысл и семиологическая структура. Таким
образом сущность структурального понимания, и в том числе, деконструкции, можно
описать не обращаясь к термину понятие. Тем не менее я счел за благо
воспользоваться им, но, естественно не в традиционном его смысле. Наверное,
целесообразно, использовать слово “дискурс” как средство взаимосвязи
уголовно-процессуального языка вообще (langue) и частного языка, речи. Дискурс
- это сверхфразовое единство слов, это общий мотив который связывает смыслы
отдельных знаков в единую смысловую ткань (симфонию?). Дискурс - это наша мысль
развивающаяся в пространстве языка. Так вот понятия, как определенные,
отдельные идеи, мысли составляет в совокупности дискурс. И, наоборот, в
дискурсе можно выделить отдельные понятия, образующие законченную мысль. Таким
образом, понятие - это актуализировавшийся в дискурсе смысл знака
семиологической структуры. Очевидно, законченную мысль, идею образует
совокупность смыслов. Естественно, понятие тесно связано со словом, которое
обозначает смысл, а также с контекстом в котором происходит называние смысла.
Понятие, наше представление относительно и не может быть однозначно абсолютно
определено, поскольку сами смыслы текучи. Например, слово “диспозитивность”
является знаком в том или ином тексте. Подобно турникету на входе, он является
осью которая служит основой для представления сменяющих друг друга смыслов
(лопасти турникета) под воздействием наших интерпретационных усилий. Тот смысл,
который мы выделяем в данный момент среди остальных в качестве пригодного,
нужного нам мы актуализируем и используем. При этом слагается система
актуализированных смыслов, в совокупности образующих то, что мы называем
понятием. Поэтому смысл слова “диспозитивность” определяется его контекстом
(предложением на первичном уровне), являющимся знаковой стороной определения понятия “диспозитивность”.
Текстовая сторона такого “определения” является знаково-смысловой, содержательная
(идейная) составляет понятие. Можно, по-видимому также добавить, что понятие -
это сложившееся на данный момент среди пользователей языка относительно
устойчивое актуализировавшееся представление о смысле данного слова. Понятие -
это общее представленное том, какой смысл "мы" готовы вкладывать в
данное слово в определенных условиях пространства и времени. Признание среди
профессиональных пользователей уголовно-процессуального языка, которым
адресован этот текст, представляемого смысла слова "диспозитивность"
в качестве полезного, позволит
считать его понятием.
Таковы соображения, составляющие сущность
моего подхода к интерпретации правовых и уголовно-процессуальных понятий. [31] Столь обширное отступление в область языковедения позволит с новых позиций
подойти к анализу текстов, касающихся диспозитивности. И первая проблема,
которая возникает в этой связи - установление смысловых границ терминов
"диспозитивность" и "свобода усмотрения правоприменителя",
поскольку общая идея свободы пронизывает их. И здесь, как мы убедимся ниже,
игра по интерпретации данных терминов может привести к весьма своеобразным
результатам.
[1] Чего стоит, например, такое требование к научной работе в области уголовного
процесса как обязательное наличие эмпирической базы, которая должна придать
видимость объективности дискурса
исследователя.
[2] Гуманитарная наука может быть лишь наукой о смысле и его нарушении - о том,
каким образом... система речи... устраняет систему кода./Ж.Бодрийяр. Система
вещей. М.,1995, с. 9.
[3] Гадамер Х.Г. Указ. соч., с. 41.
[4] Гадамер Х.Г. Указ. соч., с. 42.
[5] Price, Derek J. DeSolla. Little
Science, Big Science... and Bejond. New York: Colambia University, 1986, p. 15.
[6] Price, Derek J. DeSolla. Ibid. p.
16-17.
[7] Price, Derek J. DeSolla. Ibid. p.
17.
[8] Latour, Bruno and Steve Woolgar.
Laboratory life: The Constraction of Scientific Facts. 2d ed. Prinston, NJ:
Prinston University, 1986, p. 23.
[9] Latour, Bruno and Steve Woolgar. Idid.
P.24.
[10] Эта практика обоснования утверждаемого в рамках принятой структуры подобно
строительству и разрушению дел в состязательном судебном процессе. Более
подробно об этом см. параграф “Состязательное судоговорение - драма деконструкции”.
[11] Козловский П. Современность постмодерна //Вопросы философии. 1995, № 10, с. 89.
[12] Таковой была советская уголовно-процессуальная наука примерно с начала 30-х до
середины 90-х годов.
[13] Игра - это совершение движения как такового, при котором не фиксируется
играющий субъект. Всякая игра - это становление состояния игры. Преображение, в
ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится
искусством, называется преобразованием в структуру. Таким образом, преобразование
в структуру подразумевает, что то, что было прежде, теперь не существует, но к
тому же еще и то, что сущее теперь, представляющее в игре искусство и есть
непреходящее подлинное. Преобразование в структуру- это не просто перемещение в
другой мир. Конечно, игра играется в другом, замкнутом в себе мире. Но в той
мере, в какой она образует структуру, она каким-то образом обретает внутри себя
свой критерий и не соизмеряется ни с чем из того, что вне ее. / Гадамер Х. Г.
Указ. соч., с.с. 149, 156, 157, 158.
[14] Конечно, позитивная правовая наука необходима. Однако там, где речь заходит об
таких абстрактных понятиях, как "уголовно-процессуальное отношение",
"принцип уголовного процесса", "истинность приговора" и
пр., т.е. знаках языка так называемой теории
процесса, нельзя основываться только на действующем законе. Искусство герменевтики
(толковании правовых норм) заключается в расширении контекста (горизонта
интерпретации, герменевтического круга), в котором эти нормы толкуются. Теория
процесса должна иметь критическую направленность - быть критической юриспруденцией
[15] Гадамер Х.Г. Указ. соч., с. 448.
[16] Барт Р. Указ. соч., с. 379.
[17] На этой так называемой авторитарной стороне сущности языка я более подробно
остановлюсь ниже.
[18] Например, известный процессуалист А.Х. Гольмстен счел нужным провести различие
между теорией процесса и искусством опираясь на модное в то время учение
позитивизма О.Конта./А.Х.Гольмстен. Этюды о современном состоянии науки права. 1884г. /Юридические исследования и статьи. Спб. 1894, с. 1-2.
[19] Как отмечают С. Фущ и С.Вард:”Radical DECONSTRUCTION ... - one that is closer to poetry and music than to evidence, argument, and representation./S. Fuchs, S. Ward What is deconstruction, and where
and when does it take place? Making facts in science, building cases in law./American Sociological
Review, 1994, Vol. 59, p. 484.
[20] Этот язык может быть наверное формализован не только посредством цифр, но и,
например, через цветовую гамму или звуки.
[21] Гадамер Х.Г.отмечает, что науки о духе (гуманитарные науки) сближаются с такими
способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом
философствования, опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие
способы постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая
верификации методологическими средствами науки. Гадамер Х.Г. Указ. соч., с. 39.
[22] Барт
Р. Указ. соч., с. 381.
[23] Рикер П. Указ. соч., с. 34.
[24] Конечно, выражение “формирование нового смысла” скажем для российской
уголовно-процессуальной науки достаточно условно. Ибо какая принципиальная
новость возможна здесь? Вся проблематика ограничена двумя давно известными
противоположностями - состязательный процесс или следственный. Поэтому все смыслопроизводство
заключается в осуществлении новых комбинаций, сочетаний старых смыслов, их
игре.
[25] Барт Р. Указ. соч., с. 296.
[26] .Барт
Р. Указ. соч., с. 368.
[27] Гадамер Х.Г. Указ. соч.,с. 388.
[28] В данном тексте мне несколько раз пришлось преодолевать сопротивление такого
рода. См. с. наст. работы.
[29] Козловский П. Указ. соч., с. 90-91.
[30] Гадамер Х.Г. Указ. соч., с. 79-81.
[31] Я лично отношу свой подход к радикальной деконструкции, одной из разновидностей
постмодернизма.
|
|